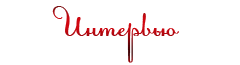|
– Вы, как и прежде, любите машины? – Сейчас уже нет, подзабыл многое. Когда пришёл из армии, был хорошо технически подкован. В армии на моих самолетах стояли два двигателя по 1600 лошадиных сил каждый, до сих пор помню, как они назывались – ВК-105-ПФ. Я знал каждый винтик в этом двигателе, ведь всё делал в них сам и каждый винтик прощупывал своими руками. Когда столкнулся с автомобильным двигателем, он показался мне детской игрушкой. Я вообще с детства всегда любил всякую технику, всегда что-то мастерил. Сейчас уже меньше, но раньше любил в железках поковыряться, постолярничать, послесарничать, что-нибудь попилить. Причём я всегда долго думал, прежде чем что-то сделать, а когда план был готов, то работу делал быстро. На моей даче много есть того, что я сделал своими руками. – Вам доводилось играть Ленина. Вы знакомились с документами, когда готовились к роли? – Насколько это было возможно в те годы. – Не было догадок, что не такой он уж и святой, как рисовала его официальная пропаганда? – Нет. Мне казалось, что всё, что было после него, было искажением и извращением, деградацией. Тогда мы, ставя фильм или спектакль про Ленина, внутренне противопоставляли его как образец коммуниста. Мы не могли сказать об этом прямо, но старались показать это через образ. Вот у меня была сцена о том, как он давал независимость Финляндии. А в это время наши войска были в Праге! И я играл Ленина, имея в виду тогдашнее положение в Чехословакии. Ленин был для меня эталоном, с его пусть кажущейся, но скромностью. Я был в его квартире в Кремле, видел комнату, в которой он жил в Смольном. Разве это можно сравнить с тем, как сегодня живут? – У вас были покровители во власти? – Я так скажу – ко мне всегда хорошо относились любые власти. Почему так они ко мне относились, я не знаю. Может быть, в силу того, что у меня были такие роли? Я ничего плохого не могу сказать об отношении ко мне бывшего первого секретаря ленинградского обкома Григория Васильевича Романова. Лично ко мне он относился уважительно. – А вы к нему? – Я встречался с ним всего несколько раз. Знаете, всегда к любому человеку я относился прежде всего как к человеку. Меня никогда не заботила политика. Если человек порядочный, если он прилично себя ведёт, если он не идиот и с ним есть, о чём поговорить, да если он ещё любит театр, то такой человек всегда вызывал у меня уважение. – Вы считаете, что во власти могут быть порядочные люди? – Убеждён, что могут. Власть, конечно, портит человека. Но прежде всего портит армия подхалимов, которая окружает человека во власти. Товстоногов был очень властным в театре, но он был ещё и очень талантливым режиссёром. Я помню, сколько вокруг него вилось всяких прихлебателей, и как они иной раз плохо влияли на него, используя его подчас детскую наивность. Ему можно было рассказать какую-то фантастическую историю, а он мог в неё поверить. Он был удивительно наивен. А когда человек при такой власти да ещё с такими качествами, то можно представить, как им могут пользоваться. Надо обладать большой стойкостью и противодействием подхалимажу тех, кто вертится вокруг, тому, что они всё время говорят: «Ты великий! Ты великий! Ты гениален! Ты гениален! Ты лучше всех!», надо иметь очень трезвые мозги и крепкую волю, чтобы противостоять этому. – Теперь вы на месте своего учителя в полной мере почувствовали, что такое руководить таким театром. Задумывались, кому из вас было легче – Товстоногову или вам? – Ему было легче, потому что он был прирожденным лидером. Он был талантлив как Бог, он строил театр – это было делом его жизни. Я никогда к руководству не стремился, и поэтому даже не чувствую себя на месте Товстоногова. Он был эрой, но эра его прошла, и на меня была возложена задача каким-то образом сохранить в то трудное и смутное время его театр. Я понимал, что я не великий режиссёр, и вообще не режиссёр, это не моя профессия, и строить театр я не могу. Мне надо было сохранить достойный уровень, чтобы передать театр новому лидеру, сплотить труппу, чтобы она не разбежалась, сохранить достойность репертуара, чтобы не было стыдно за то, что мы не храним того, что завещано Товстоноговым. Пусть это громкие слова, но это так. – Удалось? – В какой-то мере да. Можете считать меня хвастуном, но эти 15 лет нам удалось прожить достойно. Были удачи, но были, естественно, и неудачи. В общем, удалось сохранить и коллектив, и труппу, и уровень наших спектаклей. – Ваше поколение не знало той свободы, которая есть сейчас. Многие вещи, как в истории с тем же Лениным и Чехословакией, вы рассказывали через символы, держа фигу в кармане. Это интереснее, чем сейчас, когда можно говорить во весь голос всё, что хочешь сказать? – Мне было интереснее тогда. Пусть это звучит парадоксально, но это так. В те времена была цензура: «Это слово выкиньте!.. Это нельзя!..» Мы старались передурить друг друга: мы – цензуру, а она – нас. Она ловила нас на чём-то, а мы старались обвести её вокруг пальца и всё равно выйти к зрительному залу с тем, что мы хотели сказать. Вот в такой изощренной иезуитской борьбе часто рождались очень хорошие произведения. Поэтому я прихожу к мысли, что когда всё разрешено и всё «пожалуйста!», то для театра это плохо, как для артистов, так и для режиссёра. В такой свободе надо иметь очень мощного внутреннего цензора. – Это потому что свобода развращает? – Она безусловно, развращает людей нестойких и склонных к коллекционированию купюр. Она развращает, когда разрешено делать всё, что хочешь, когда становятся неважны сам театр и его основные принципы, а важны только деньги, деньги, деньги… Русский театр, по словам Белинского, всегда был кафедрой. Именно этим и прославилась русская театральная школа. Недаром все крупнейшие американские артисты тянулись к системе Станиславского, которого у нас попирают ногами и говорят, что никому не нужна его система. Если мы потеряем русскую театральную школу, её традиции от Щепкина и Станиславского до Мейерхольда и Товстоногова, то для русского искусства это будет трагедия. Надеюсь, что этого не будет. сентябрь 2005 г. Беседовал Андрей Морозов Интервью любезно предоставлено автором стр.1 стр.2 стр.3 |
  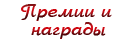  

|
Сайт создан в системе uCoz